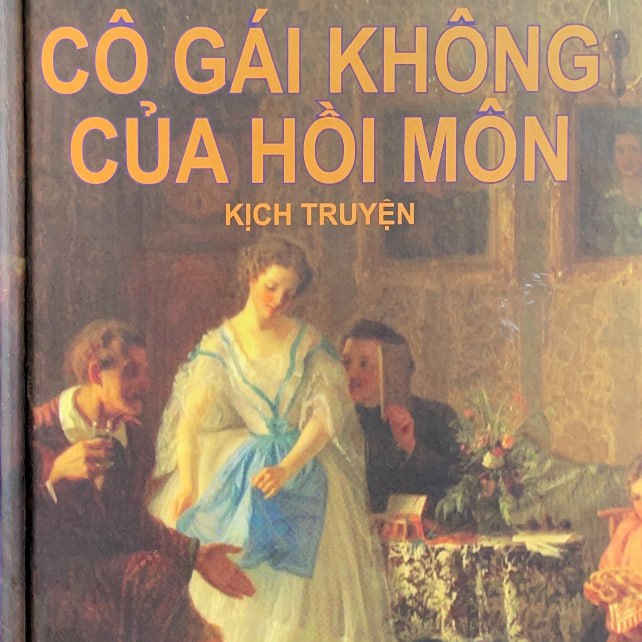Обыватель, не посвященный в профессию, чаще всего убежден в том, что пожарный – это человек в каске, который активизируется строго по тревоге, умеет стремительно спускаться по пожарному столбу и занимается исключительно тушением пожаров. В действительности же дело обстоит несколько иначе: именно эти специалисты обычно первыми реагируют на самые разные вызовы, будь то ДТП, обрушение здания или забравшийся на дерево котенок. Но, безусловно, главное – это именно борьба с огненной стихией, где профессиональные риски возрастают кратно: любой, даже самый на первый взгляд простой пожар, может стоить жизни его ликвидатору. Единственный способ минимизировать угрозу – постоянная работа над собой и повышение квалификации.
В этом уверен Максим Елизаров, за плечами которого пятнадцатилетний опыт работы пожарным. Ему довелось поучаствовать в ликвидации сотен пожаров в самых разных точках, от промзон и частного сектора до центра Санкт-Петербурга, и не раз почувствовать дыхание смерти, как бы пафосно это ни звучало. Теперь он передает опыт коллегам в Сербии, разрабатывает тренажеры для пожарных и спасателей и ведет личный блог для всех, кто интересуется пожарным делом.
В первой части интервью РГМ.Журналу специалист оперативной группы, инструктор Российско-Сербского гуманитарного центра Максим Елизаров рассказал о том, какие явные и скрытые риски таит в себе профессия пожарного, что такое косвенное спасение и зачем на ликвидации пожаров нужна экшн-камера.
Что сподвигло вас связать свою жизнь с профессией пожарного?
Откровенно говоря, сам не знаю. В семье никто не работал пожарным: мама – учитель начальных классов, папа – водитель. Я же решил попробовать себя в этой сфере и после школы поступил в пожарно-спасательный колледж. Больше всего меня привлекала возможность получить как можно больше практических навыков, а учебная программа колледжа включала огромное количество дисциплин, связанных с работой руками. В конце первого учебного года я получил первоначальную подготовку пожарного, и это дало мне возможность уже на втором курсе совмещать обучение с работой – так началась моя профессиональная практика. Я, как и, наверное, многие мои коллеги, думал, что поработаю некоторое время, а потом определюсь, чего же действительно хочу от жизни, но все закрутилось-завертелось – и в результате я провел 15 лет в противопожарной службе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За эти годы я сменил пять пожарных частей, мне довелось поработать в промзоне, в частном секторе, в спальных районах и в центре города, а каждая такая зона имеет свою, кардинально отличающуюся от других, специфику работы пожарного.


Параллельно я развивал инструкторские навыки и окончил Санкт-Петербургский государственный университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это позволило мне занимать руководящие должности: сначала командира отделения, потом – начальника караула, а затем – старшего смены службы пожаротушения Ленинградской области. Во время работы мне посчастливилось познакомиться с людьми из разных регионов России, которым небезразлично будущее нашей профессии. Мы объединились и по собственной инициативе начали проводить занятия, развивающие профессиональные навыки, по всей территории Российской Федерации.
Спустя какое-то время мне поступило предложение от Российско-Сербского гуманитарного центра продолжить дело моего коллеги Михаила Сафроненко, у которого вы брали интервью несколько лет назад. У него была большая мечта: сделать пожарно-спасательный полигон в Сербии, продвигать здесь наши технологии, передавать российский опыт. Он наметил план, заложил основу будущей работы, но, к сожалению, скоропостижно скончался, не застав осуществления задуманного. Я стараюсь довести дело до конца, начатое Михаилом – в Нише на территории Российско-Сербского гуманитарного центра был построен полигон, руководителем которого я был назначен 1 июля этого года. Впрочем, моя новая должность не отменяет того, что я по-прежнему провожу занятия и участвую в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вы уже много лет в профессии. А помните свой первый выезд на тушение пожара?
По правде говоря, подробности уже стерлись памяти. Наверняка первый вызов был связан с тушением какой-нибудь помойки – так бывает практически у всех пожарных. Первый крупный пожар я тоже уже не могу вспомнить, но в памяти навсегда отложилась первая ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. В 4 утра мы получили вызов, как полагается, собрались за минуту и в полудреме поехали к месту ДТП, а авария произошла страшная: легковая машина с пятью пассажирами на огромной скорости влетела в припаркованный на обочине грузовик. Мне дали гидравлическое оборудование, чтобы обеспечить доступ к телам погибших, однако, когда я увидел, насколько они обезображены, мне стало сильно не по себе. На это обратили внимание старшие коллеги и подменили меня. С тех прошло много лет, а я, признаться, до сих пор не люблю работать на ДТП, хотя чего только с тех пор мне не довелось повидать.
Работая пожарным, вы принимали участие в ликвидации последствий ДТП, приходилось спасать людей… В чем тогда, собственно, разница между работой спасателя и пожарного, кроме того, что последний занимается еще и непосредственно тушением пожара?
Действительно, многие удивляются, когда узнают, что мы не только тушим пожары. Но обратите внимание на вывески: наши части называются не просто пожарными, а именно пожарно-спасательными. Так устроено не только в России, в Сербии дела обстоят похожим образом, и именно пожарные быстрее всех реагируют на любое сообщение о ЧС. Если человек упал в колодец, произошел прорыв трубы с горячей водой, котенок залез на дерево и не может спуститься или бабушка упала с кровати и не может самостоятельно подняться – все эти вопросы решают обычно как раз пожарные.
В профессиональной среде мои коллеги редко называют себя спасателями, тем не менее каждый из них обязательно проходит первоначальную подготовку спасателя, знает основы ориентирования, оказания первой помощи, ликвидации ЧС, не связанных с пожарами. Строго говоря, разделить работу пожарного и спасателя можно, проведя аналогию с миром медицины. Мы, скажем так, терапевты, а наша задача – определить характер ЧС, оказать первую помощь, передать информацию центральному пункту связи, оградить место, убрать людей. И только затем, продолжая аналогию, на место приезжают узконаправленные специалисты – те же спасатели с серьезным оборудованием, подходящим под решение конкретной задачи. Взять, к примеру, ДТП. У пожарных есть минимальный комплект гидравлического оборудования, которым они могут деблокировать зажатых людей в искореженных автомобилях, но если авария действительно серьезная, то помочь могут только те спасатели, у которых есть расширенный комплект оборудования и необходимые знания.
В то же время неправильно делать вывод, что мы занимаемся всеми ЧС на свете, а спасатели – только по своему профилю. У всех спасателей, с кем мне доводилось работать в Санкт-Петербурге, кроме непосредственно спецодежды спасателей, были и сумки с боевой одеждой пожарного, и необходимые допуски для участия в тушении пожаров. Так что мы работаем бок о бок.


Работа пожарного сопряжена с риском для жизни. Насколько сложно преодолевать страх во время работы в зоне ЧС?
На самом деле риск связан не только с непредвиденными ситуациями во время тушения пожара. Оглянитесь: практически все, что нас окружает, сделано из синтетических материалов, дерева – минимальное количество. Когда горит древесина, дым практически не выделяется. Когда горит квартира, дым очень густой и плотный – и это синтетические материалы, иными словами, очень токсичное несгоревшее топливо. Скажу больше, большинство летальных исходов во время пожара связано именно с тем, что человек задыхается, а не сгорает. Пожарные же работают в этой среде. Да, сейчас существуют дыхательные аппараты, и мы настаиваем на их использовании во время ликвидации ЧС, но и они не дают стопроцентной защиты. Как ни старайся уберечься, канцерогенный дым проникает под боевую одежду, ложится на кожу, а через поры токсины попадают в организм. Сотню раз ощущал на себе, как на следующий день после тушения пожара с соблюдением всех правил техники безопасности самочувствие резко ухудшается, начинает раскалываться голова. Такой риск, назову его накопительным, нередко провоцирует онкологию, проблемы с сердцем и другие болезни. Увы, никто не ведет статистику, сколько пожарных погибает именно из-за этого, поскольку сложно доказать, что причиной того или иного заболевания стало именно исполнение служебных обязанностей на протяжении долгих лет.
Если же говорить о рисках, связанных непосредственно с тушением пожара, то тут все зависит от человека. Я попадал во множество ситуаций, когда мог погибнуть. Чего только не было: глаза заливало гудроном, падал в технологические проемы с торчащей арматурой, скатывался по кровле… Некоторые моменты даже запечатлены на экшн-камеру на моей каске. Один из них связан со взрывом газового баллона в непосредственной близости от меня и моих коллег. Без преувеличения скажу, что это был мой второй день рождения: окажись я на полсекунды позже в проекции взрыва баллона с кислородом, меня бы уже не было. К счастью, только повредило боевую одежду и каску и произошел разрыв пожарного рукава на две части. В тот момент я все же смог собраться и сохранить хладнокровие – нашел каску, убедился, что все целы, и продолжил руководить тушением пожара.
Тогда ждал, что в следующий раз, когда я услышу тревогу, внутри что-то щелкнет – но никакого психологического влияния на меня тот пожар на удивление не оказал. Впоследствии выяснилось, что была легкая контузия, но обошлось даже без больничного. Осознание того, что произошло, наступило только где-то через два-три дня, и это заставило меня полностью изменить отношение к подчиненным. Я понял, что психологически куда страшнее для меня была бы гибель кого-то из моих коллег, поскольку именно мне пришлось бы отвечать за смерть, смотреть в глаза жене, родителям, детям погибшего. Случись такое, я бы, подумалось тогда, наверное, ушел и из профессии. С тех пор на пожарах – неважно, идет ли речь о каком-то захудалом частном гараже или о крупном предприятии, – даже после разведки я не верю ни очевидцам, ни хозяевам. И не поверю до тех пор, пока сам не смогу убедиться, что моему личному составу ничего не угрожает.


Случай со взрывом газового баллона, и не только его, вы записали на видео. Зачем? Для архива? Друзьям показать изнанку профессии?
Да, я действительно много лет использовал камеру. В первую очередь брал ее для того, чтобы защитить себя от возможных обвинений. К сожалению, нередки случаи, когда пожарных подозревают буквально в мародерстве во время тушения квартиры. Видеофиксация всех действий в случае чего может стать неопровержимым доказательством невиновности. Также видеоматериалы мне были нужны для разбора действий личного состава. Идеально потушенных пожаров не бывает, всегда есть чему учиться, все по-разному реагируют на стрессовую ситуацию. У одних, говоря на нашем профессиональном сленге, опускается забрало, и они не помнят, что и как делали. Другие, имея за плечами солидный опыт, становятся излишне самоуверенными и начинают подвергать себя неоправданному риску. Запись с камеры – идеальный способ все обсудить и проанализировать буквально по горячим следам.
А еще вы ведете телеграм-канал «Огненный сундук»…
С блогосферой я знаком давно. Первый блог я вел в запрещенной ныне соцсети, где показывал свои будни пожарного и инструктора. На пике он собрал около 3500 подписчиков. После запрета платформы я перешел в «Телеграм», где сейчас на мой канал «Огненный сундук» подписано порядка 4500 человек. На первый взгляд может показаться, что это небольшая аудитория, но я никогда не гнался за подписчиками или личным признанием в интернете. Моя задача – создать площадку для обмена опытом и повышения квалификации пожарных. С этой точки зрения такое количество профессионалов на одной площадке – большое достижение. В «Огненном сундуке» я выкладываю полезную для специалистов информацию, разборы действий на пожаре, обзоры интересного оборудования, некоторые статьи нахожу на зарубежных ресурсах и перевожу на русский язык.
К сожалению, далеко не всегда хватает времени на ведение канала, в последнее время все реже получается публиковать новые материалы. Я четко осознаю, что являюсь лидером мнений в пожарном деле, на меня подписан различный контингент работников нашей системы, включая руководителей высшего звена, а это значит, что информацию, которую я выкладываю, должна быть десять раз перепроверена и грамотно сформулирована. Впрочем, даже несмотря на то, что я не так часто публикую посты, вокруг «Огненного сундука» собралось настоящее профессиональное сообщество. Помимо блога, у меня есть чат «Болталка сундука», где жизнь кипит буквально днем и ночью, ведь в нем присутствуют пожарные со всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. Постоянно ведутся какие-то дискуссии, обмен опытом, конечно, не обходится без шуток-прибауток, но по большей части в чате обсуждаются действительно важные темы. Планирую и дальше развивать свой блог и сообщество, потому что все это – вклад в косвенное спасение.
Косвенное спасение – это какой-то профессиональный термин?
Да. К примеру, человек уже не работает пожарным, но обучает специалистов, таким образом он может косвенно спасти чью-то жизнь посредством передачи личного опыта. Для косвенного спасения очень важны такие площадки, как «Огненный сундук», разборы пожаров и многое другое, чем я и занимаюсь. Только задумайтесь: ежегодно в России погибают в среднем 15–16 пожарных, и погибают, как правило, по одним и тем же причинам. Никто из них не думает, что окажется в том самом критическом положении, каждый считает себя профессионалом, в то время как самая, казалось бы, плевая ситуация может оказаться роковой. В самом спокойном районе, где происходит пара пожаров в год, может случиться нечто, что унесет жизнь пожарного. Поэтому повышать квалификацию, тренироваться нужно всем, а мы с командой не только косвенно учим спасать, но и боремся за выживаемость самих пожарных.
Текст: Игнат Матейкин
Фото: архив Максима Елизарова
 РГМЖурнал
РГМЖурнал